Кира Анатольевна ГРОЗНАЯ — поэт, писатель, деятель культуры. Главный редактор журнала "Аврора". Член Союза писателей и Союза журналистов Санкт-Петербурга. Участник поэтического литобъединения А. Г. Машевского с 2003 г. Резидент и наставник образовательных программ "Всемпоэзии" с 2021 г. Лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга в области журналистики, литературной премии им. Н. В. Гоголя. Шорт-лист премии искусств "Созидающий Мир" и премии им. А. И. Левитова. Победитель Всероссийского фестиваля "Покровский собор"-2023 в номинации "Поэзия". Выступала на "Веснадцатьфест", вела школу "Текст" на Всероссийском акселераторе для поэтов "ВПрофессии". Создатель конкурса "Поэтический дебют", где победитель получает публикацию в "Авроре" и денежный приз. Конкурс проводится в официальной группе К.А. Грозной ВК.
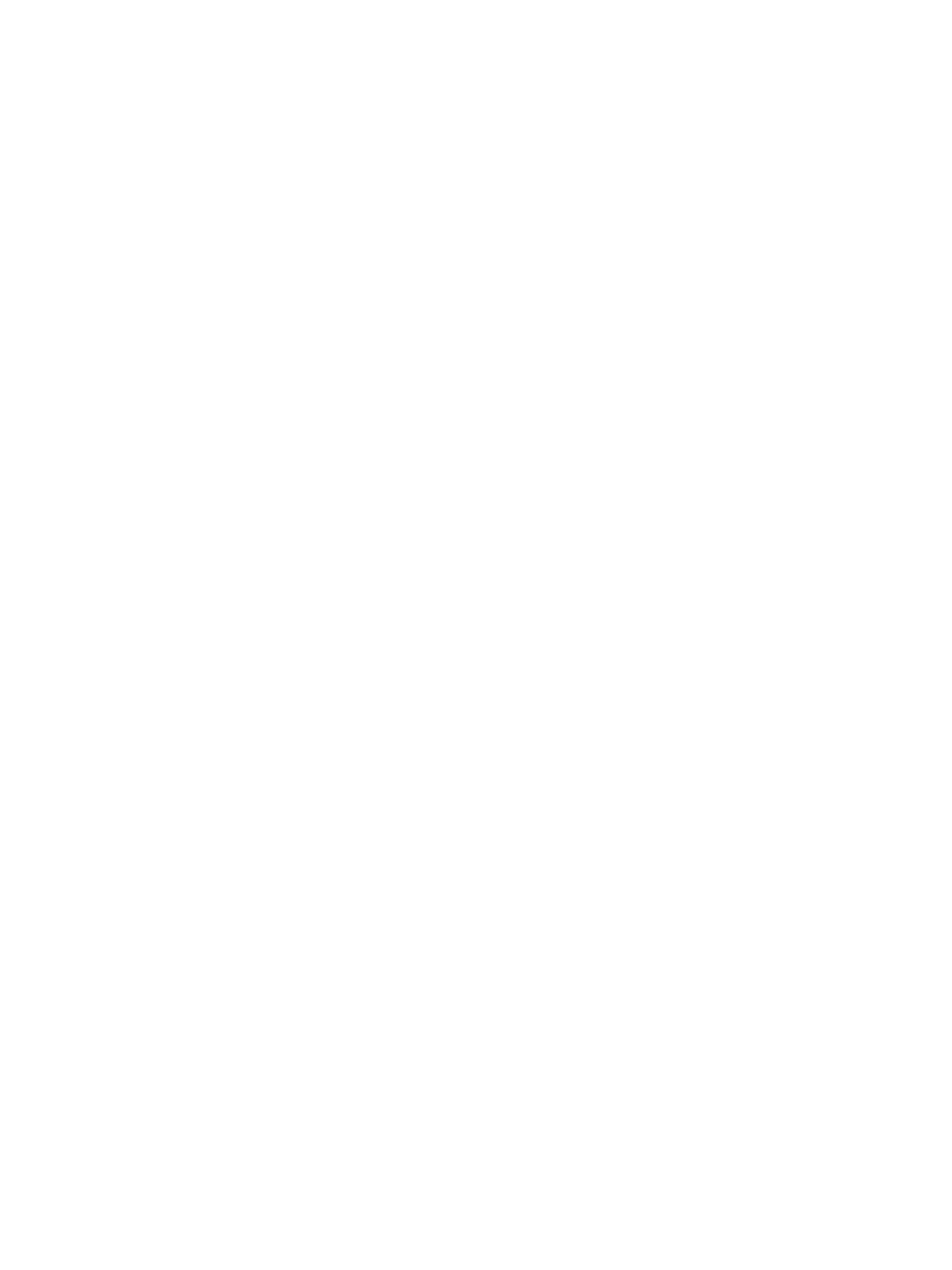
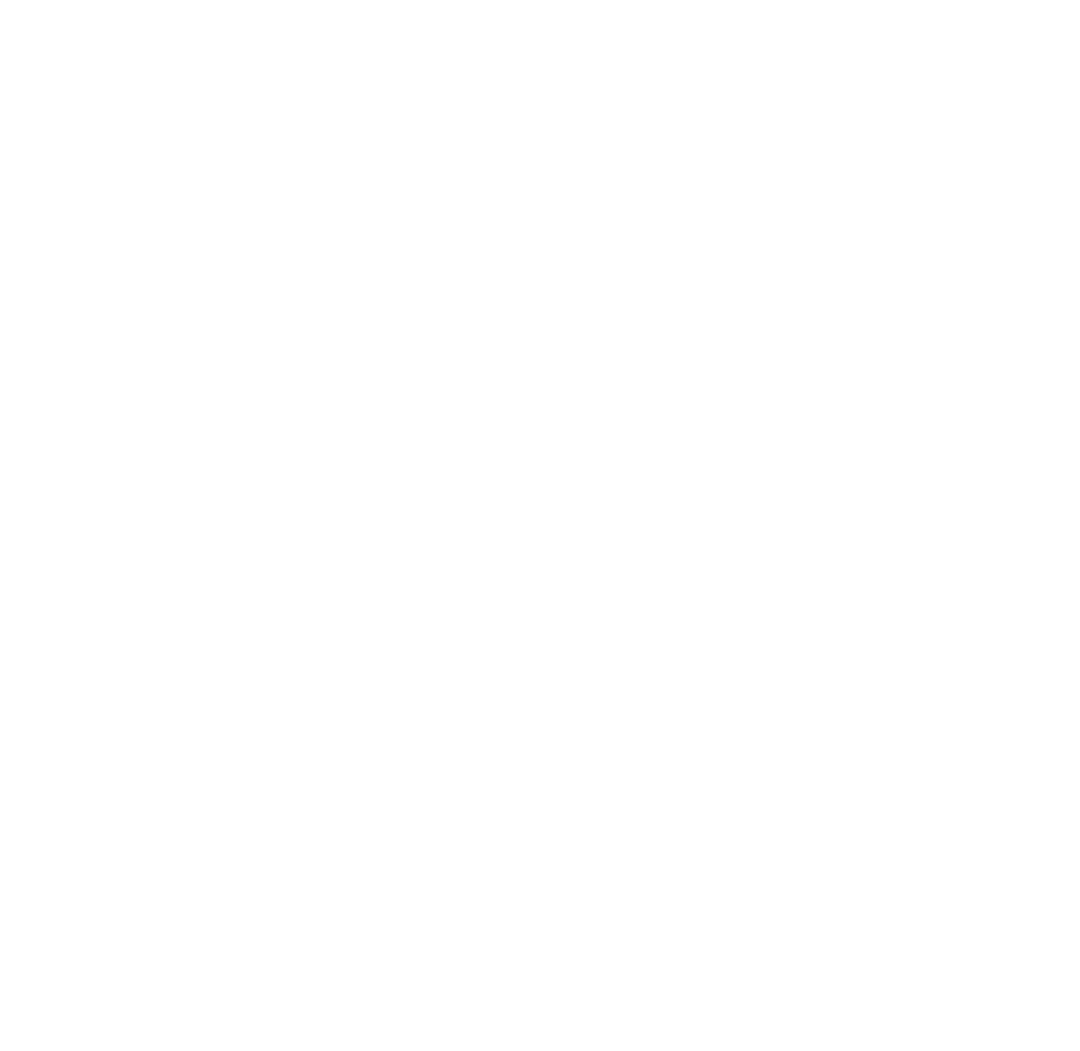
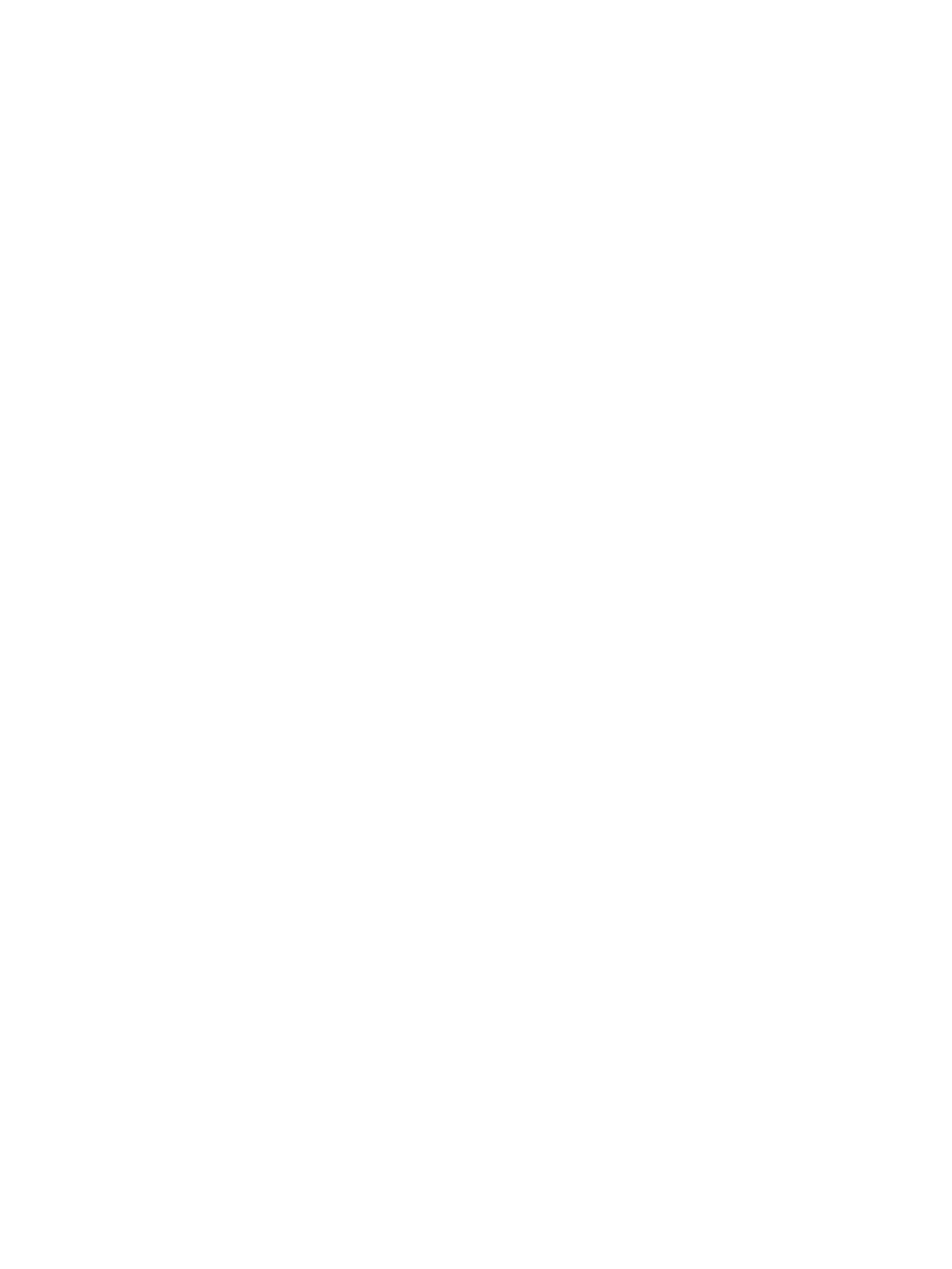
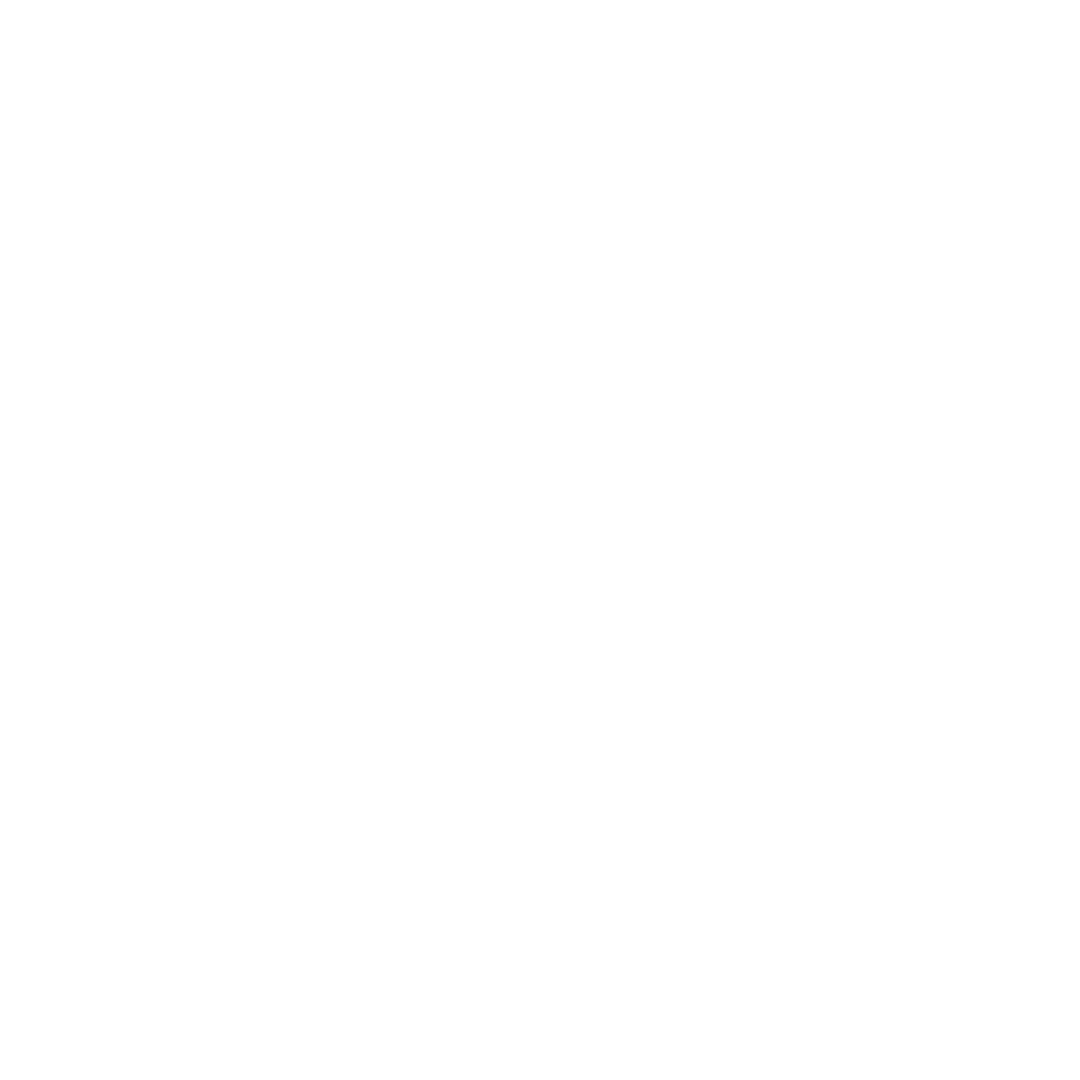
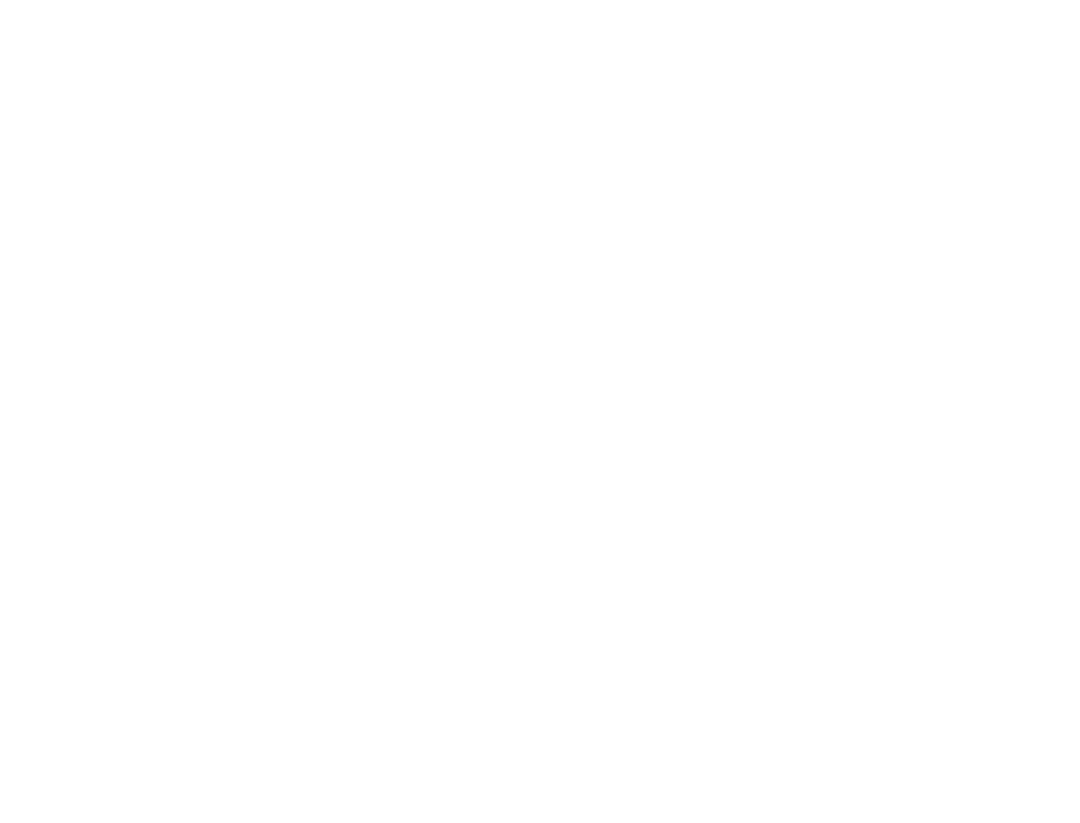
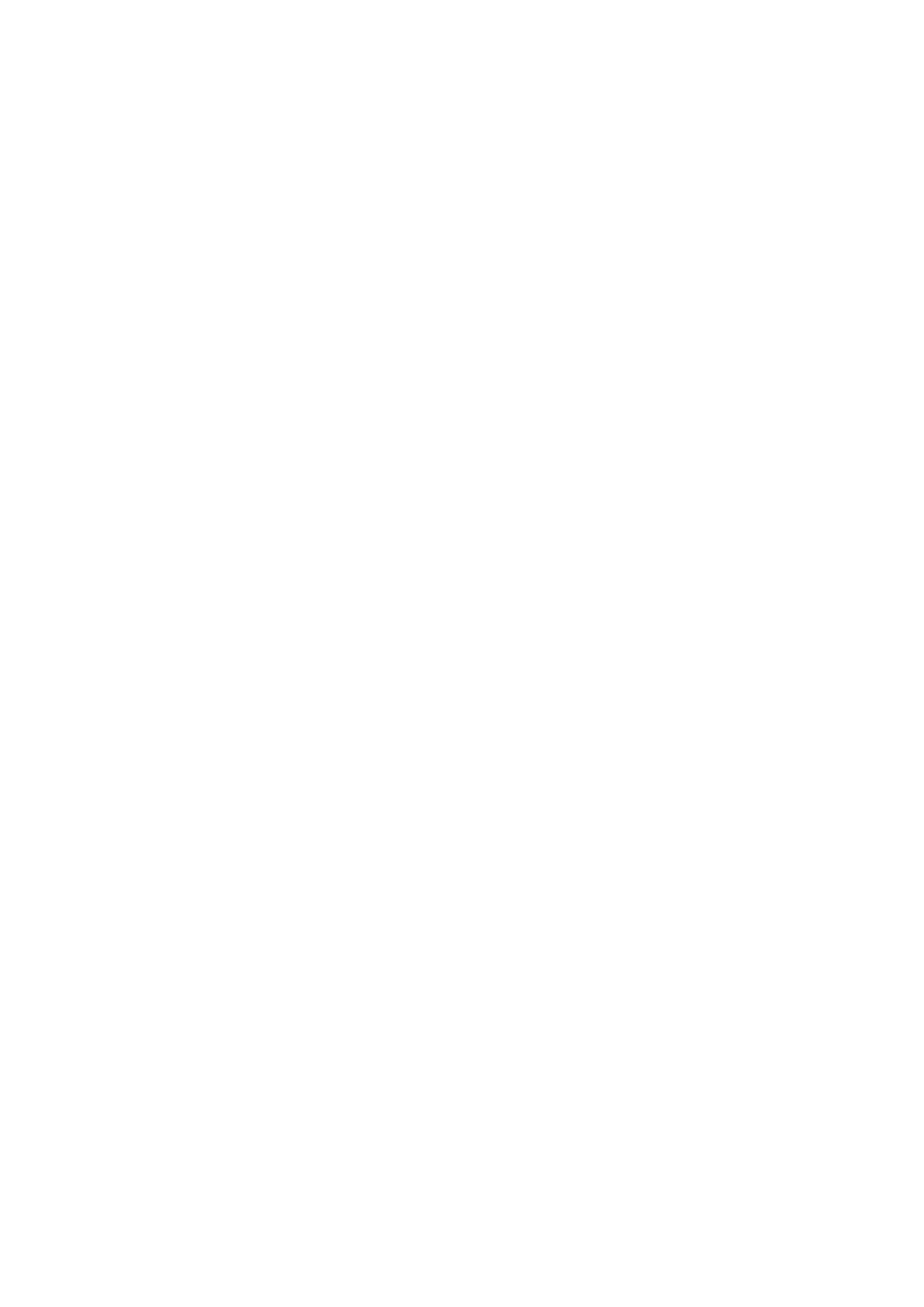
Кира Грозная // Свет в ночей постылых череде
***
Есть, как у профессии любой,
День писателя — у нас с тобой,
Но сказал социопат-приятель:
— Нет такой профессии — «писатель», —
И в реестр профессий ткнул рукой.
Прав приятель мой социопат:
Нет таких профессий — снег и град,
Ландыш, лес, роса на белом камне,
Март рисует мокрыми мелками
На холсте зимы уснувший сад.
Летописец, фантазер, пророк,
Продавец иллюзий, шут, игрок —
Нет таких профессий; в мире лихо,
Но в твоем миру тепло и тихо,
Ты — отшельник, ты почти что Бог.
Нет такой профессии нигде —
Ни в Тюмени, ни в Караганде,
Только «праздник, что всегда с тобою»,
Сотня жизней под одной судьбою,
Свет в ночей постылых череде.
***
Скажи, как удержать тебя сейчас,
Когда река разъединила нас
Рокочущею огненной стихией:
Тебя — со мной, меня — с живой волной,
Всемирной созидающей струной,
С пространством, без которого стихи я
Бессильна выдохнуть, пробормотать.
Какой ценой тебя мне удержать?
Наверное, единственно ценой
Отказа от всего, что было мной:
Сарказма, интонаций и движений,
Подробностей, в которых всякий наг,
Что сокровенней ценностей и благ —
Свободы, власти, рода продолженья,
Что выше жизни или смерти — той
Единственной немыслимой ценой?
Отбросить, сжечь и набело отмыть
От наносного душу, позабыть
Тевтонский допинг Иоахима Витта,
Мужской рюкзак, массивное авто,
Что огрубляло облик мой, всё то,
Чем изживала страх, Taedium vitae,
В чем пряталась от нежности земной,
Пока тебя не знала под луной.
Обрыв, культурной пропасти река...
Все призрачней в руке моей рука,
И даже на открытке роза вянет.
Хоть в стену бейся, хоть бросайся вплавь —
Уже не разобрать, где сон, где явь,
Где ты ещё со мной, а где тебя нет.
Удастся ли вернуть тебя ценой
Отказа от того, что было мной?
***
Милая бабушка, ты мне скажи, лишь тебе поверю,
Правда ли это – ты? Ты ли стоишь за дверью?
Или там что-то чужое и скользкое, как анаконда,
Не ядовитая, но большая и страшная, вроде Джоконды,
Которой боялись мы, дети, мелкие и живые,
И оттого пририсовывали ей всякие непотребства:
Рожки, клыки, антенны и признаки половые.
Нынче я не боюсь ни бабая, ни черта в ступе,
Вечно сижу одна, дождь только рамы лупит.
Милая бабушка, ты мне скажи, лишь тебе поверю,
Правда ли я – чудовище? Я маминой меркой меряю,
А для мамы всегда открыт только правый берег.
Я же с другого берега лишь вчера прилетела.
Там, у Эгейского моря, так невесомо тело,
Так беспредельны музы и так лукавы,
Что ни за что на свете не тянет на берег правый.
Ты не поймёшь, я знаю, но и не осудишь.
Жаль, что на берег наш больше ты не прибудешь.
Бабушка, как легки стали мои вериги.
Манят Халкидики – пальмы, оливы, фиги.
Дерзко двухцветно море делится на две зоны:
Ближе к тебе – фиолетово, у моих ног – бирюзово.
Здесь же – сырое тесто неба, зола промзоны.
Лучше б остаться там, пьяненькой и влюбленной.
Милая бабушка, ты мне скажи, лишь тебе поверю,
Правда ли, что всегда кто-то стоит за дверью?
Вот осмелеть бы, выйти да посмотреть. И, может,
Нас никогда никто больше не потревожит.
***
Когда-то у меня был лучший друг.
Мы жили в деревянной двухэтажке,
В одной квартире тридцать лет назад.
В том доме пахло кошками, подвалом.
Текла вода холодной струйкой. Время
Текло гораздо медленней воды.
Висел на стенке Брежнева портрет,
Еще картины – акварели мамы.
Стояло фото дедушки без рамы
На тумбочке. Мне было восемь лет.
Их почему-то восемь всякий раз,
Когда смотрю в тот дом я, как сейчас.
Наш двор был и не очень-то на двор
Похож: росла дворовая культура,
Как злой неокультуренный сорняк
В далеких городах, а наш поселок
Был мал и не делился на дворы.
Помойный бак, колючие кусты,
Чертополох, цветущий оголтело.
С судейской вышкой скромная площадка
Для волейбола. Те, кто приходили
Забросить мяч, натягивали сетку,
И забирали, уходя, с собой.
Белье уныло меж столбов висело.
Мы воровали вяленую рыбу
У алкашей, что жили подо мной.
Они на кухне протянули лески,
Как для белья, и вешали на них
Вкуснейший из трофеев. Как могли мы,
Учуяв запах, в кухню не залезть?
В окно ныряла я, мой друг держал,
Сопя, мои увертливые ляжки,
Прижав их к подоконнику. А я,
Как кошка, совершив всего один
Бросок точнейший, схватывала леску
И выдирала из стены с гвоздем!
Там было озеро и лодок ряд.
Они у полосы прибрежной сохли.
Мы залезали в лодки, спички жгли.
Боялись, но густой травы стена
Скрывала нас. И вдруг в сухой камыш
Упала спичка. Побежал огонь
Сначала тоненькой дорожкой, вскоре
Взметнулся к небу, затрещал, завыл!
Мы, выпрыгнув из лодки, убежали.
Был тихий берег в пепле и в дыму.
Нас посельчане до утра искали,
Растаскивая обгорелый хлам…
Был в детстве том щемящий аромат.
Мы были беспризорны, безнадзорны,
Но счастливы и в маленьком порту,
Где катера и баржи разгружались,
Катались на плоту… Я уезжала.
Стоял контейнер с мебелью, посудой
Среди двора, громоздкий, как сарай.
Он разделил нас с другом навсегда,
Вобрав в себя его поделки, игры,
Все безделушки, что он мне дарил.
Мы не могли об этом говорить –
Не говорили. И не попрощались.
Потом был город строгий и чужой.
Меня водили в Кировский театр
И в Эрмитаж. На катерке катали
По рекам и каналам. Я была,
Как барышня, причесана, одета.
Терзала пианино каждый день
По два часа и с мальчиком домашним
Дружила по субботам. Время шло,
Я позабыла крошечный поселок,
Убожество и роскошь детских лет,
И то, как лодки факелом горели
И плыл над побережьем черный дым.
Но вот недавно написал мужчина,
Немолодой и хмурый. Он в Перми
Работает охранником на складе.
Писал: здоровья нет и нет семьи,
Но помнит он всю жизнь, как мы детьми
Сожгли те лодки. Помнит и меня,
Чумазую девчонку-заводилу.
Он помнит многое, что я забыла:
Как волновался он, когда на плечи
К нему я забиралась, чтоб в окно
Залезть, как пахли волосы мои –
Золой и ветром, рыбой и полынью.
***
Есть, как у профессии любой,
День писателя — у нас с тобой,
Но сказал социопат-приятель:
— Нет такой профессии — «писатель», —
И в реестр профессий ткнул рукой.
Прав приятель мой социопат:
Нет таких профессий — снег и град,
Ландыш, лес, роса на белом камне,
Март рисует мокрыми мелками
На холсте зимы уснувший сад.
Летописец, фантазер, пророк,
Продавец иллюзий, шут, игрок —
Нет таких профессий; в мире лихо,
Но в твоем миру тепло и тихо,
Ты — отшельник, ты почти что Бог.
Нет такой профессии нигде —
Ни в Тюмени, ни в Караганде,
Только «праздник, что всегда с тобою»,
Сотня жизней под одной судьбою,
Свет в ночей постылых череде.
***
Скажи, как удержать тебя сейчас,
Когда река разъединила нас
Рокочущею огненной стихией:
Тебя — со мной, меня — с живой волной,
Всемирной созидающей струной,
С пространством, без которого стихи я
Бессильна выдохнуть, пробормотать.
Какой ценой тебя мне удержать?
Наверное, единственно ценой
Отказа от всего, что было мной:
Сарказма, интонаций и движений,
Подробностей, в которых всякий наг,
Что сокровенней ценностей и благ —
Свободы, власти, рода продолженья,
Что выше жизни или смерти — той
Единственной немыслимой ценой?
Отбросить, сжечь и набело отмыть
От наносного душу, позабыть
Тевтонский допинг Иоахима Витта,
Мужской рюкзак, массивное авто,
Что огрубляло облик мой, всё то,
Чем изживала страх, Taedium vitae,
В чем пряталась от нежности земной,
Пока тебя не знала под луной.
Обрыв, культурной пропасти река...
Все призрачней в руке моей рука,
И даже на открытке роза вянет.
Хоть в стену бейся, хоть бросайся вплавь —
Уже не разобрать, где сон, где явь,
Где ты ещё со мной, а где тебя нет.
Удастся ли вернуть тебя ценой
Отказа от того, что было мной?
***
Милая бабушка, ты мне скажи, лишь тебе поверю,
Правда ли это – ты? Ты ли стоишь за дверью?
Или там что-то чужое и скользкое, как анаконда,
Не ядовитая, но большая и страшная, вроде Джоконды,
Которой боялись мы, дети, мелкие и живые,
И оттого пририсовывали ей всякие непотребства:
Рожки, клыки, антенны и признаки половые.
Нынче я не боюсь ни бабая, ни черта в ступе,
Вечно сижу одна, дождь только рамы лупит.
Милая бабушка, ты мне скажи, лишь тебе поверю,
Правда ли я – чудовище? Я маминой меркой меряю,
А для мамы всегда открыт только правый берег.
Я же с другого берега лишь вчера прилетела.
Там, у Эгейского моря, так невесомо тело,
Так беспредельны музы и так лукавы,
Что ни за что на свете не тянет на берег правый.
Ты не поймёшь, я знаю, но и не осудишь.
Жаль, что на берег наш больше ты не прибудешь.
Бабушка, как легки стали мои вериги.
Манят Халкидики – пальмы, оливы, фиги.
Дерзко двухцветно море делится на две зоны:
Ближе к тебе – фиолетово, у моих ног – бирюзово.
Здесь же – сырое тесто неба, зола промзоны.
Лучше б остаться там, пьяненькой и влюбленной.
Милая бабушка, ты мне скажи, лишь тебе поверю,
Правда ли, что всегда кто-то стоит за дверью?
Вот осмелеть бы, выйти да посмотреть. И, может,
Нас никогда никто больше не потревожит.
***
Когда-то у меня был лучший друг.
Мы жили в деревянной двухэтажке,
В одной квартире тридцать лет назад.
В том доме пахло кошками, подвалом.
Текла вода холодной струйкой. Время
Текло гораздо медленней воды.
Висел на стенке Брежнева портрет,
Еще картины – акварели мамы.
Стояло фото дедушки без рамы
На тумбочке. Мне было восемь лет.
Их почему-то восемь всякий раз,
Когда смотрю в тот дом я, как сейчас.
Наш двор был и не очень-то на двор
Похож: росла дворовая культура,
Как злой неокультуренный сорняк
В далеких городах, а наш поселок
Был мал и не делился на дворы.
Помойный бак, колючие кусты,
Чертополох, цветущий оголтело.
С судейской вышкой скромная площадка
Для волейбола. Те, кто приходили
Забросить мяч, натягивали сетку,
И забирали, уходя, с собой.
Белье уныло меж столбов висело.
Мы воровали вяленую рыбу
У алкашей, что жили подо мной.
Они на кухне протянули лески,
Как для белья, и вешали на них
Вкуснейший из трофеев. Как могли мы,
Учуяв запах, в кухню не залезть?
В окно ныряла я, мой друг держал,
Сопя, мои увертливые ляжки,
Прижав их к подоконнику. А я,
Как кошка, совершив всего один
Бросок точнейший, схватывала леску
И выдирала из стены с гвоздем!
Там было озеро и лодок ряд.
Они у полосы прибрежной сохли.
Мы залезали в лодки, спички жгли.
Боялись, но густой травы стена
Скрывала нас. И вдруг в сухой камыш
Упала спичка. Побежал огонь
Сначала тоненькой дорожкой, вскоре
Взметнулся к небу, затрещал, завыл!
Мы, выпрыгнув из лодки, убежали.
Был тихий берег в пепле и в дыму.
Нас посельчане до утра искали,
Растаскивая обгорелый хлам…
Был в детстве том щемящий аромат.
Мы были беспризорны, безнадзорны,
Но счастливы и в маленьком порту,
Где катера и баржи разгружались,
Катались на плоту… Я уезжала.
Стоял контейнер с мебелью, посудой
Среди двора, громоздкий, как сарай.
Он разделил нас с другом навсегда,
Вобрав в себя его поделки, игры,
Все безделушки, что он мне дарил.
Мы не могли об этом говорить –
Не говорили. И не попрощались.
Потом был город строгий и чужой.
Меня водили в Кировский театр
И в Эрмитаж. На катерке катали
По рекам и каналам. Я была,
Как барышня, причесана, одета.
Терзала пианино каждый день
По два часа и с мальчиком домашним
Дружила по субботам. Время шло,
Я позабыла крошечный поселок,
Убожество и роскошь детских лет,
И то, как лодки факелом горели
И плыл над побережьем черный дым.
Но вот недавно написал мужчина,
Немолодой и хмурый. Он в Перми
Работает охранником на складе.
Писал: здоровья нет и нет семьи,
Но помнит он всю жизнь, как мы детьми
Сожгли те лодки. Помнит и меня,
Чумазую девчонку-заводилу.
Он помнит многое, что я забыла:
Как волновался он, когда на плечи
К нему я забиралась, чтоб в окно
Залезть, как пахли волосы мои –
Золой и ветром, рыбой и полынью.
