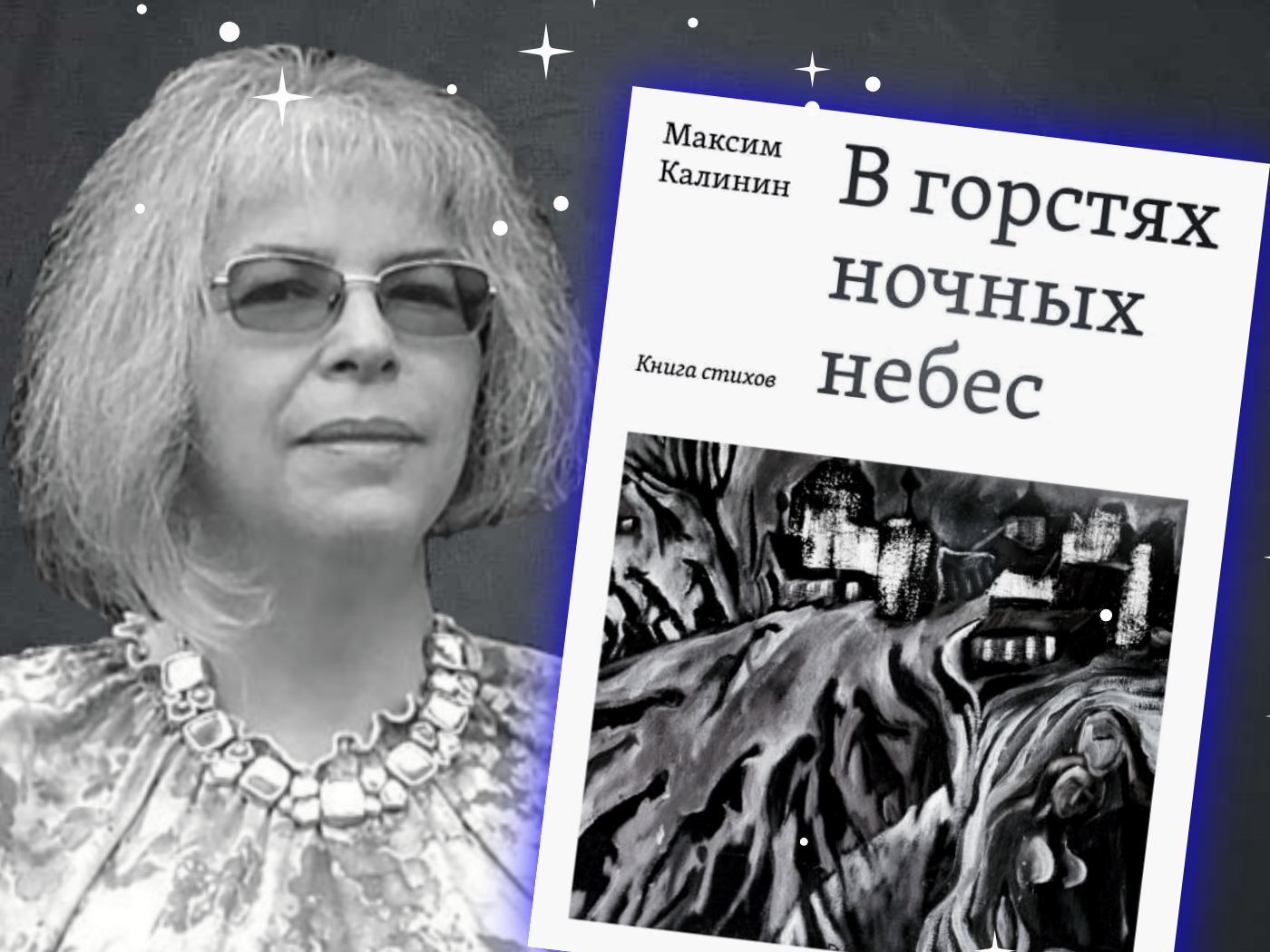Вера Владимировна Калмыкова - российский филолог, к.ф.н., искусствовед, поэт. Наставник образовательных программ "Всемпоэзии". Публикуется в журналах «Нева», «Октябрь», «Юный художник», «Дружба народов», «Иностранная литература», «Знамя», «Новое литературное обозрение», «Новый мир». В 2010 вышла книга стихов «Растревоженный воздух», в 2021 — исследование о 19 ключевых фигурах русской поэзии «Творцы речей недосказанных», в 2023 — справочник «Литература для нервных».
Новая книга стихов Максима Калинина «В горстях ночных небес» состоит из трёх разделов. В каждом чередуются свободные и регулярные стихотворения. Старшее поколение российских поэтов продолжает споры о праве верлибра на место в отечественной литературе. Младшее приняло эту стихотворную форму как данность. Однако тут же возникла иная проблема — в творчестве молодых стихотворцев под верлибром то и дело понимается любой текст, произвольно поделенный на строки, претендующие быть стихотворными.
Подборка «На вопросы редакции отвечают…» в журнале «Дети Ра» (2010, № 2) — не столько дискуссия о верлибре, сколько мозговой штурм. Да послужат нам теоретической опорой мнения известных литераторов.
Верлибр — не просто стихотворение без размера и рифмы (таким образом, тексты, в которых элементы того и другого хотя бы проскальзывают, — всё-таки не верлибры, а гетероморфные стихи). По содержанию это, как правило, острое, точечное наблюдение или обобщение, прямое или метафорическое, фиксирующее отдельный момент озарения или переживания, приводящего к «вспышке речи» (Юрий Беликов). По этой причине хороший верлибр не может быть текстом со штампами или с описанием виденного-перевиденного или житого-пережитого — в нём всегда есть нечто неожиданное, колющее, останавливающее. Верлибр ловит и хватает реальное время, останавливая его длительность.
Ненастливым
Днём ноября
Замешались
В берёзовый вихорь
Чёрные
Крики ворон.
Это наблюдение мгновенно: стихнет ветер, улетят птицы — картина рассыплется.
Силлабо-тоническое стихотворение, как правило, подразумевает развитие образа, или мотива, или ситуации во времени. Членение речи на отрезки, маркированные рифмой, созвучием или, например, количеством стоп в стихе, обеспечивает развитие темы, художественной идеи, или мотива, или образа/системы образов — словом, некоторое становление. Верлибр никогда не становящееся, он — ставшее.
Давно не стало вязкости в листве,
И птичий плач — отчётливей из чащи.
Шар солнца покатился по траве,
И след его, стремительно горящий,
Сияет, как пробор на голове.
Тоска по смерти с каждым днём всё чаще
Сквозит в неотвратимой синеве.
Здесь прошлое («давно не стало», «покатился») соединяется с настоящим («сияет»), а экзистенциальное состояние тоски по смерти вовсе выпадает из временного потока.
Формально верлибр, по определению Татьяны Виноградовой, и есть «поэтический поток». Юрий Беликов говорил о водопаде, Владимир Ермолаев о волнах, речевых приливах и отливах. Свободный стих при необходимости можно раздёргать на цитаты, но впечатления целого цитата не даст. Напротив, из последнего процитированного стихотворения можно извлечь отдельные строки, если возникнет необходимость иллюстрировать метафоричность или афористичность поэзии Калинина. И каждая цитата будет обладать законченным смыслом или нести завершённый образ.
Отсутствие ритма, привычного в силлабо-тонике, компенсируется в верлибре ритмом образов, или кратких состояний, или мыслей, т.е. так называемым «внутренним ритмом» в отличие от силлабо-тонического «внешнего», модели, организующей текст.
Упавший в бездну
На миг
Задержался в полёте,
Схватившись
За скользнувшую к небесам
Душу.
Одновременное движение вверх и вниз, упавший в бездну и его уже отдельная душа — составляющие ритма образов в верлибре.
Юрий Милорава высказался однозначно: «Верлибр — это новое отрицание логичных декоративных конструкций, убийство симметрии в поэтической форме — асимметричная поэзия, — без симметрии рифм и без симметрии размера». Милорава уверен, что рифма и размер — «побрякушки»: «Рамочная ритмика и синхронность ритмопериодов, точные фонетические повторы на концах строк уже в XX веке уходят из литературных журналов и книг и остаются на эстраде и в текстах песен. Мировосприятие, переживание связаны с декором сегодняшнего пространства — в архитектуре, в дизайне, в телекадрах практически отсутствуют линейность и симметрия. Нет их даже в современных небоскрёбах. Нет у природы. И никогда не было. И в сознании нет — на тонком уровне — на уровне шестого чувства и интуиции».
Не станем пока обсуждать естественность или неестественность силлабо-тонической речи, её декоративность. Хотя бы потому, что не всякий «естественный», «природный», «недекоративный» верлибр имеет отношение к искусству, и по современной англоязычной поэзии это, увы, особенно заметно. Самое важное — отсутствие симметрии. Даже не логических конструкций — в интеллектуальном верлибре-размышлении они присутствуют и уместны (см. стихи Марка Харитонова).
Максим Калинин, однако, идёт и на эксперименты, осваивая раритетные поэтические формы. В своё время он перевёл пятистишия Аделаиды Крэпси. В новой книге стихов поэт выступает как автор оригинальных пятистиший. Эту поэтическую форму можно определить как гетероморфную — есть размер (в данном случае разностопный ямб) и нет рифмы. Однако это и не белый стих — именно благодаря членению на отдельные стихи так, как это сделано в переводах и оригинальной поэзии.
Вот какое пятистишие Максима Калинина служит эпиграфом к первому разделу книги «В горстях ночных небес».
В горстях
Ночных небес
Над бездною земной
Не больше звёзд, чем призраков
В душе.
Здесь ничего литературно узнаваемого, прежде читанного. Какая странная аллюзия к кантианским звёздному небу над головой и моральному закону в душе!.. Горсти небес — небесный свод, в традиционной картине мира похожий на купол из двух полусогнутых кистей рук (представим, как черпаем воду из ручья обеими сомкнутыми горстями). Купол, таким образом, получает верхнюю границу, он замкнут — в отличие от привычного нам бездонного неба. Земля, о которой мы знаем, что она измерима и конечна, напротив, становится бездной. Небо и твердь меняются характеристиками. Далее возникает третье пространство — душа со своими призраками, коих мириады. Количество звёзд по сравнению с ними выглядит не очень-то и большим.
Вот текст, предваряющий второй раздел книги:
Пройти
Весь белый свет,
Не медля на ходу,
И хлопнуть дверью на краю
Земли.
Здесь привычен лишь «белый свет»: фольклорная узнаваемость работает как символ связи с народной словесностью. Белый свет оказывается ни в коем случае не шарообразной Землёй, но линейной протяжённостью, а если учесть дверь — то коридором, за которым пропасть («на краю»), куда готов безвозвратно рухнуть лирический герой. Причину мы не знаем; стихотворение замкнуто.
Третьему разделу предпослан следующий верлибр-эпиграф:
Взгляни:
Альдебаран,
Венера, Орион —
Ночь рассыпает по небу
Цветы.
Подразумевается знание созвездий, иначе никаких цветов взгляд сложить не сумеет. Ощущается перекличка с начальным текстом о малом количестве звёзд по сравнению с призраками. Но цветы способны стереть призраки: там, где раньше был ужас, теперь царствует красота.
«В горстях ночных небес» — именно книга стихов, выстроенная автором как единый текст. Первый раздел — ужас бытия, второй — неприятие и отторжение человеческого общества, третий — катарсис, восхищение красотой и гармонией. Композиция выстроена и продумана до последней строки. Экзистенциальная природа поэзии Калинина от этого становится только более явной. В рифмованных стихах он растягивает переживание во времени, сталкивая сходно звучащие слова и побуждая читателя формировать новые смыслы и ассоциации:
В голубых ночах причитанья вдов.
Из страны непуганых холодов
Утекло нечаянное тепло
И немало прочего утекло.
В стихотворении «Тишину подпирает заборная жердь…» изобразительные металлические метафоры — золото, серебро, сталь, свинец, медь — обращены в равной степени и к природному, и к человеческому миру, но не культуры, как мы привыкли (золотой век, серебряный век…), а тоски и смерти, вполне конкретных, бытовых. Бытовой пласт существования вовлечён в тексты Калинина и остаётся там неприглядно-узнаваемым — но одновременно чудесным образом возвышается над жизненным аналогом:
Над расхристанным морем
Покатых крыш
Неуёмным мороком
Полетишь.
Так оба переживания — точечное и длящееся — сливаются в тайну человеческой души, явленной через поэзию.
Верлибр — не просто стихотворение без размера и рифмы (таким образом, тексты, в которых элементы того и другого хотя бы проскальзывают, — всё-таки не верлибры, а гетероморфные стихи). По содержанию это, как правило, острое, точечное наблюдение или обобщение, прямое или метафорическое, фиксирующее отдельный момент озарения или переживания, приводящего к «вспышке речи» (Юрий Беликов). По этой причине хороший верлибр не может быть текстом со штампами или с описанием виденного-перевиденного или житого-пережитого — в нём всегда есть нечто неожиданное, колющее, останавливающее. Верлибр ловит и хватает реальное время, останавливая его длительность.
Ненастливым
Днём ноября
Замешались
В берёзовый вихорь
Чёрные
Крики ворон.
Это наблюдение мгновенно: стихнет ветер, улетят птицы — картина рассыплется.
Силлабо-тоническое стихотворение, как правило, подразумевает развитие образа, или мотива, или ситуации во времени. Членение речи на отрезки, маркированные рифмой, созвучием или, например, количеством стоп в стихе, обеспечивает развитие темы, художественной идеи, или мотива, или образа/системы образов — словом, некоторое становление. Верлибр никогда не становящееся, он — ставшее.
Давно не стало вязкости в листве,
И птичий плач — отчётливей из чащи.
Шар солнца покатился по траве,
И след его, стремительно горящий,
Сияет, как пробор на голове.
Тоска по смерти с каждым днём всё чаще
Сквозит в неотвратимой синеве.
Здесь прошлое («давно не стало», «покатился») соединяется с настоящим («сияет»), а экзистенциальное состояние тоски по смерти вовсе выпадает из временного потока.
Формально верлибр, по определению Татьяны Виноградовой, и есть «поэтический поток». Юрий Беликов говорил о водопаде, Владимир Ермолаев о волнах, речевых приливах и отливах. Свободный стих при необходимости можно раздёргать на цитаты, но впечатления целого цитата не даст. Напротив, из последнего процитированного стихотворения можно извлечь отдельные строки, если возникнет необходимость иллюстрировать метафоричность или афористичность поэзии Калинина. И каждая цитата будет обладать законченным смыслом или нести завершённый образ.
Отсутствие ритма, привычного в силлабо-тонике, компенсируется в верлибре ритмом образов, или кратких состояний, или мыслей, т.е. так называемым «внутренним ритмом» в отличие от силлабо-тонического «внешнего», модели, организующей текст.
Упавший в бездну
На миг
Задержался в полёте,
Схватившись
За скользнувшую к небесам
Душу.
Одновременное движение вверх и вниз, упавший в бездну и его уже отдельная душа — составляющие ритма образов в верлибре.
Юрий Милорава высказался однозначно: «Верлибр — это новое отрицание логичных декоративных конструкций, убийство симметрии в поэтической форме — асимметричная поэзия, — без симметрии рифм и без симметрии размера». Милорава уверен, что рифма и размер — «побрякушки»: «Рамочная ритмика и синхронность ритмопериодов, точные фонетические повторы на концах строк уже в XX веке уходят из литературных журналов и книг и остаются на эстраде и в текстах песен. Мировосприятие, переживание связаны с декором сегодняшнего пространства — в архитектуре, в дизайне, в телекадрах практически отсутствуют линейность и симметрия. Нет их даже в современных небоскрёбах. Нет у природы. И никогда не было. И в сознании нет — на тонком уровне — на уровне шестого чувства и интуиции».
Не станем пока обсуждать естественность или неестественность силлабо-тонической речи, её декоративность. Хотя бы потому, что не всякий «естественный», «природный», «недекоративный» верлибр имеет отношение к искусству, и по современной англоязычной поэзии это, увы, особенно заметно. Самое важное — отсутствие симметрии. Даже не логических конструкций — в интеллектуальном верлибре-размышлении они присутствуют и уместны (см. стихи Марка Харитонова).
Максим Калинин, однако, идёт и на эксперименты, осваивая раритетные поэтические формы. В своё время он перевёл пятистишия Аделаиды Крэпси. В новой книге стихов поэт выступает как автор оригинальных пятистиший. Эту поэтическую форму можно определить как гетероморфную — есть размер (в данном случае разностопный ямб) и нет рифмы. Однако это и не белый стих — именно благодаря членению на отдельные стихи так, как это сделано в переводах и оригинальной поэзии.
Вот какое пятистишие Максима Калинина служит эпиграфом к первому разделу книги «В горстях ночных небес».
В горстях
Ночных небес
Над бездною земной
Не больше звёзд, чем призраков
В душе.
Здесь ничего литературно узнаваемого, прежде читанного. Какая странная аллюзия к кантианским звёздному небу над головой и моральному закону в душе!.. Горсти небес — небесный свод, в традиционной картине мира похожий на купол из двух полусогнутых кистей рук (представим, как черпаем воду из ручья обеими сомкнутыми горстями). Купол, таким образом, получает верхнюю границу, он замкнут — в отличие от привычного нам бездонного неба. Земля, о которой мы знаем, что она измерима и конечна, напротив, становится бездной. Небо и твердь меняются характеристиками. Далее возникает третье пространство — душа со своими призраками, коих мириады. Количество звёзд по сравнению с ними выглядит не очень-то и большим.
Вот текст, предваряющий второй раздел книги:
Пройти
Весь белый свет,
Не медля на ходу,
И хлопнуть дверью на краю
Земли.
Здесь привычен лишь «белый свет»: фольклорная узнаваемость работает как символ связи с народной словесностью. Белый свет оказывается ни в коем случае не шарообразной Землёй, но линейной протяжённостью, а если учесть дверь — то коридором, за которым пропасть («на краю»), куда готов безвозвратно рухнуть лирический герой. Причину мы не знаем; стихотворение замкнуто.
Третьему разделу предпослан следующий верлибр-эпиграф:
Взгляни:
Альдебаран,
Венера, Орион —
Ночь рассыпает по небу
Цветы.
Подразумевается знание созвездий, иначе никаких цветов взгляд сложить не сумеет. Ощущается перекличка с начальным текстом о малом количестве звёзд по сравнению с призраками. Но цветы способны стереть призраки: там, где раньше был ужас, теперь царствует красота.
«В горстях ночных небес» — именно книга стихов, выстроенная автором как единый текст. Первый раздел — ужас бытия, второй — неприятие и отторжение человеческого общества, третий — катарсис, восхищение красотой и гармонией. Композиция выстроена и продумана до последней строки. Экзистенциальная природа поэзии Калинина от этого становится только более явной. В рифмованных стихах он растягивает переживание во времени, сталкивая сходно звучащие слова и побуждая читателя формировать новые смыслы и ассоциации:
В голубых ночах причитанья вдов.
Из страны непуганых холодов
Утекло нечаянное тепло
И немало прочего утекло.
В стихотворении «Тишину подпирает заборная жердь…» изобразительные металлические метафоры — золото, серебро, сталь, свинец, медь — обращены в равной степени и к природному, и к человеческому миру, но не культуры, как мы привыкли (золотой век, серебряный век…), а тоски и смерти, вполне конкретных, бытовых. Бытовой пласт существования вовлечён в тексты Калинина и остаётся там неприглядно-узнаваемым — но одновременно чудесным образом возвышается над жизненным аналогом:
Над расхристанным морем
Покатых крыш
Неуёмным мороком
Полетишь.
Так оба переживания — точечное и длящееся — сливаются в тайну человеческой души, явленной через поэзию.
Максим Калинин. В горстях ночных небес. Книга стихов. М.: Б. С. Г.-Пресс, 2024. 172 с.